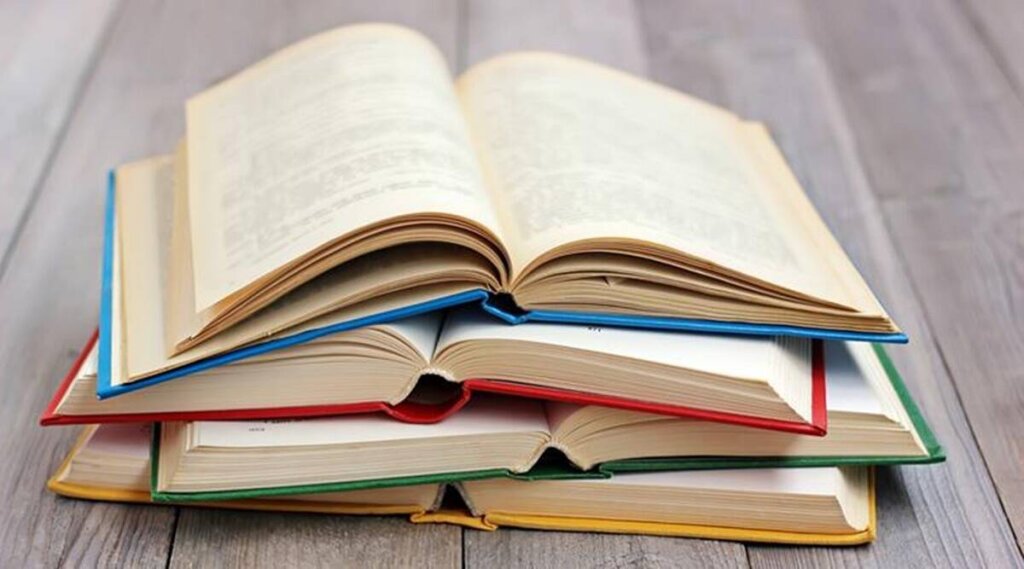This is Part I in a two-part series. Part II will appear on Wednesday, 10/21.
Kirill Zubkov is an Associate Professor at Higher School of Economics (Moscow) and research fellow at the Institute of Russian Literature (St. Petersburg).
Translated by Anne Lounsbery — please find the original below.
Over a decade ago when I was an undergraduate in Russia, I attended a lecture by a professor known for his broad scholarly interests and his peculiar sense of humor. In the middle of the lecture this professor embarked on a brief digression concerning scholarly methods, which concluded, as I recall, more or less like this: “One can, of course, engage in commentary—say, take a text and uncover two citations in it. That’s like descending into a basement and finding two pipes there.” A few days later, I took part in a student seminar at Pushkinskii dom (the Institute of Russian Literature). During the seminar one of the institute’s affiliates remarked off-handedly that literary theorists are like medieval scholastics, morosely rooting about in words—one should instead practice real philology, she said, grounded in the discovery of new facts. I was chagrined, unable to understand why serious researchers would respond with such disdain to whole fields of scholarship. I think I now understand the situation better than when I was an undergraduate, but the current state of affairs is hardly more pleasing to me.
Here I’ll try to explain the origins of these two positions in Russian academic circles, how they affect the way Western studies of Russian literature are perceived, and why this opposition is felt with particular acuteness in the field of nineteenth-century literature.
Historians of Russian literature who lived and worked in the Soviet Union experienced severe ideological pressure and censorship. The aftereffects of this trauma are so powerful that in Russia it remains very difficult to discuss even today. Indeed it’s significant that the most striking publications treating Soviet ideological campaigns in the field of literary studies have not been produced by Russian literary scholars. Efim Etkind described his own experience in Notes of a Non-Conspirator, but by 1977 when the book came out in London, Etkind was already an emigre. Relatively recently, a monumental study entitled Ideology and Philology. Leningrad, 1940s was published by Pyotr Druzhinin—but Druzhinin is primarily a historian with a particular focus on book studies, not a literature scholar. Literary researchers prefer to keep quiet about such things: one of my teachers, I remember, literally could not bring himself to tell students what made Jacob Elsberg so terribly notorious, and why it’s better never to refer to his books unless absolutely necessary: as I was already aware at the time, this semi-official Soviet scholar was known less for his research than for denouncing his colleagues.
Ideological pressure was felt especially harshly in the field of literary theory and methodology. In fact, the only acceptable approach in the humanities was a dogmatic Soviet version of Marxism, which—at least in literary studies—tended toward the reproduction of ideological clichés, both verbal and intellectual. The language of such Soviet literary criticism is still well known in Russia, and it influences, if subtly, at least some people who write about literature. Anyone who’s read even a few works written in such language will easily recognize formulas like the following: “In his realistic satire, Fonvizin mercilessly exposes the vices of the autocratic-serf regime”—formulas that of course have nothing to do with historical and literary reality but are often still found, for example, in student papers.
Under such conditions, often the best option remaining to literary historians in the Soviet period was to focus on issues having nothing to do with “Marxist-Leninist methodology”—that is, primarily positivist research. For example, seeking out previously unknown literary works was simpler than developing new interpretations: even Soviet censorship rarely objected to clarifying the text of a classic novel by correcting previous editors’ mistakes (although positivist investigations sometimes caused problems too—in the Soviet Complete Works of Gogol, for example, it was impossible to print Reflections on the Divine Liturgy due to its religious content).
Entire generations of researchers were trained to think that the study of theory and methodology is idle talk, worthy only of academic party functionaries. Theory and methodology were contrasted with textual criticism and factual commentary. Fans of this traditional criticism and commentary have usually emphasized that nothing can be achieved in these fields without long and careful work (and in this it is difficult to argue with them), while in other fields success is given without serious work (and here it is difficult to agree with them).
Of course, in reality we cannot divide all Soviet scholars into two camps, commentators vs. bureaucrats. In the late Soviet Union fruitful theoretical research was carried out, for example, on the legacy of the formalists, the philosophical interpretation of Bakhtin, and other topics, and this research played a huge role in forming the Tartu-Moscow semiotic school and the original work of L.Ya. Ginzburg, to name only a few examples. But mainstream Soviet literary scholarship was definitely not shaped by these traditions.
In Soviet times one of the most serious barriers to theoretical research was the unavailability of modern western theoretical literature, which, with rare exceptions, was not translated and not accessible to Soviet readers. Even when readers managed to get hold of such literature, it was usually taken out of context. Thus while Michel Foucault's Words and Things appeared in the Soviet Union in 1977, it had no serious influence on the thinking of Soviet literary critics, since it was by and large completely alien to their scholarly interests.
And when foreign literary theory finally became available in Russia, not only did the divide between “theoreticians” and “commentators” not disappear, it became even deeper. A cascade of new translations, the chance to travel abroad and work in libraries and other such opportunities meant little in a situation where there was no basic knowledge to provide necessary context for perceiving new theoretical literature, applying its provisions, or consulting with colleagues about new terminology. For Russian literary researchers, even those who had thoroughly mastered, say, university courses in literary theory, French poststructuralist theory did not necessarily make for comfortable or even comprehensible reading, if only because such scholars had no idea how to apply these methods to their own work.
But at the same time, those academics who managed to master new critical vocabularies (whether completely or incompletely) hardly showed themselves to be more tolerant. Approaches grounded in archival research, historical commentary, etc., began to be dismissed as the embodiment of monotony, stagnation, and an unwillingness to change anything at all about the far-from-ideal state of literary studies.
As a result, today in Russia as in certain other post-Soviet countries, literary academics (and to be clear, we are speaking here about serious scholars who do responsible work) have been divided into two groups. On the one hand, there are those who persist in reproducing old academic traditions, and on the other, those who have managed to engage with newer research paradigms. Of course one can’t say that every literary scholar can be assigned to one of these two camps (recall, for example, V.M. Zhivov, who worked productively with little-known sources and at the same time described his work as the “historical deconstruction of meaning”). However, for a very significant number of researchers, the situation remains as we have described it here.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Знать источники или заниматься теорией? Об одной ложной альтернативе в работах по истории русской литературы
Больше 10 лет назад я, тогда студент российского университета, слушал лекцию профессора, отличавшегося широкими научными интересами и очень своеобразным чувством юмора. В середине лекции профессор сделал небольшое отступление о научных методах, заканчивавшееся, насколько я помню, примерно так: «А можно, конечно, еще заниматься комментарием: взять, например, произведение и найти там две цитаты. Это как спуститься в подвал и найти там две трубы». Через несколько дней после этого я участвовал в работе студенческого семинара в Пушкинском доме (Институте русской литературы). В ходе этого семинара одна из сотрудниц института между прочим заметила, что теоретики литературы похожи на мрачно копающихся в словах средневековых схоластов, тогда как надо заниматься настоящей филологией, основанной на новых фактах. В то время я был огорчен и никак не мог понять, почему серьезные ученые с таким пренебрежением отзывались о целых направлениях исследований. Теперь, кажется, я понимаю это лучше, чем когда был студентом, но едва ли сложившееся положение дел больше меня радует.
В своей заметке я постараюсь объяснить, откуда в российских научных кругах возникли эти две позиции, как в их свете воспринимается современная западная русистика и почему их оппозиция особенно остро чувствуется в исследованиях по литературе 19 века.
В свое время историки русской литературы, жившие и работавшие в Советском Союзе, пережили тяжелое потрясение, вызванное сильнейшим идеологическим давлением и цензурой. Глубина этого потрясения была настолько велика, что до сих пор даже обсуждать его в России очень тяжело. Показательно, что самые яркие публикации о советских идеологических кампаниях в области наук о литературе исходят преимущественно не из кругов российских специалистов в этих науках. Свой собственный опыт описал Ефим Эткинд в книге «Записки незаговорщика», — но Эткинд уже был эмигрантом. Сравнительно недавно монументальное исследование под заглавием «Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы» опубликовал Петр Дружинин — но Дружинин специалист по истории и книжному делу, а не по литературе. Исследователи литературы предпочитают о таких вещах молчать: один из моих преподавателей, помнится, буквально не смог заставить себя рассказать студентам, чем же таким ужасным известен Яков Эльсберг и почему на его книги без крайней необходимости лучше не ссылаться, — как я к тому моменту уже знал, этот официозный советский ученый был известен не столько научными открытиями, сколько доносами на коллег.
Особенно жестко идеологическое давление ощущалось в области теории литературы и методологии. Фактически единственным допустимым в гуманитарной области подходом был догматичный советский извод марксизма, который — по крайней мере, в области наук о литературе — в большинстве случаев быстро превратился в воспроизведение идеологических штампов — как словесных, так и интеллектуальных. Язык такого советского литературоведения до сих пор хорошо известен в России и влияет — хотя бы подспудно — на пишущих о литературе людей. Любой хотя бы немного читавший написанных на нем работ легко узнает выражения наподобие: «В своей реалистической сатире Фонвизин беспощадно вскрывает пороки самодержавного-крепостнического режима», — выражения, не имеющие, конечно, никакого отношения к историко-литературной действительности, но до сих пор часто встречающиеся, например, в студенческих работах.
В этих условиях историкам литературы оставалось заниматься теми вопросами, к которым «марксистско-ленинский метод» не имел никакого отношения — то есть по преимуществу позитивистскими исследованиями. Искать, например, ранее не известные произведения русских писателей было проще, чем давать им новые трактовки: даже советская цензура обычно не возражала, скажем, против уточнения текста классического романа (хотя и такой поиск подчас сопровождался проблемами — в советском Полном собрании сочинений Гоголя, например, нельзя было напечатать книгу «Размышления о божественной литургии» в силу религиозного содержания).
Целые поколения исследователей были воспитаны на практике, согласно которой занятия теорией и методологией — это пустословие, достойное разве что партийных функционеров от науки. Этим занятиям противопоставлялись текстология и фактологическое комментирование. Обычно любители таких методов подчеркивали и подчеркивают, что в этих областях ничего невозможно добиться без долгого и тщательного труда (и в этом с ними трудно поспорить), тогда как в прочих областях успехи даются без серьезной работы (а здесь уже трудно с ними согласиться).
Разумеется, в действительности далеко не все советские ученые делились на комментаторов и чиновников. В позднем Советском Союзе велись плодотворные теоретические поиски, связанные с наследием формалистов, философской трактовкой литературы М.М. Бахтина и др. — именно эти направления сыграли, например, огромную роль в становлении так называемой тартуско-московской семиотической школы, в оригинальных исследованиях Л.Я. Гинзбург и проч. Однако «мейнстрим» советской науки о литературе действительно определялся вовсе не этими традициями.
Одной из наиболее серьезных проблем для теоретических исследований была недостаточная доступность современной западной литературы, которая, за редкими исключениями, не переводилась и не была доступна советским читателям. Даже если они эту литературу и получали, она оказывалась во многом вырванной из контекста. Так, в 1977 г. в Советском союзе были опубликованы «Слова и вещи» Мишеля Фуко — но, разумеется, почти никакого серьезного влияния на рассуждения советских литературоведов эта книга не оказала, поскольку была совершенно чужда научным интересам большинства из них.
Однако когда иностранная литература по теории наконец-то стала доступна в России, граница между «теоретиками» и «комментаторами» не только не исчезла, но стала еще глубже. Водопад новых переводов, возможность поехать за границу и работать в библиотеке и прочие возможности мало значили в ситуации, когда не было базовых знаний, в каком контексте воспринимать новую литературу, как применять ее положения, у кого из коллег можно проконсультироваться относительно новых выражений. Российскому исследователю литературы, даже если он хорошо освоил, например, университетские курсы по теории литературы, в целом было не всегда удобно и понятно разбираться, скажем, во французском постструктурализме — хотя бы потому, что этому исследователю оставалось совершенно непонятно, как можно применить эти методы к его собственной научной работе.
Впрочем, едва ли больше терпимости проявили и исследователи, которые в большей или меньшей степени смогли освоить новый язык. Основанный на архивных поисках, историческом комментировании и проч. подход начал восприниматься как воплощение рутины, косности и нежелания хотя бы что-то изменить в далеком от идеала положении дел в науке о литературе.