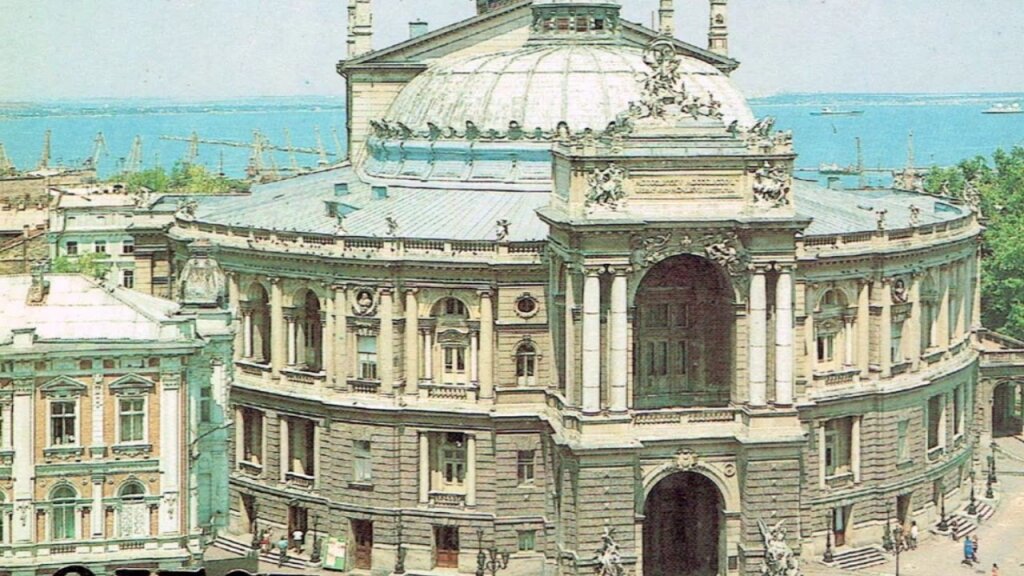This is Part II in a two-part series. Part I may be found here.
Kirill Zubkov is an Associate Professor at Higher School of Economics (Moscow) and research fellow at the Institute of Russian Literature (St. Petersburg).
Translated by Anne Lounsbery — please find the original below.
The result is a division between knowledge and interpretation which seriously constrains modern literary scholarship in Russia: previously unknown figures, works and events from literary history remain under-conceptualized, and theoretical constructions often do not touch upon new material. Too many researchers do not appear to see and do not want to see that their intellectual antagonists are neither idlers nor malicious tricksters.
In my view, the unavoidability of what amounts to a choice between knowledge and interpretation has had a particularly detrimental effect on research in nineteenth-century literature. For one thing, in this field it’s much easier to confine oneself to the names of several major writers, about whom one might, at first glance, say that enough is known. Of course the literary canon of this era continues to be subject to revision (as we see, for instance, in many promising new studies of nineteenth-century women writers), but it seems that colossal shifts are hardly possible in the foreseeable future. This is especially evident if we compare the situation to that of the twentieth-century canon, the post-Soviet reinterpretation and revision of which continues to this day. It’s clear, for instance, that it’s not possible to publish new, uncensored versions of Soviet avant-garde texts without updating our research optics. In the case of nineteenth-century literature, by contrast, the appearance of new material rarely provokes a radical revision of theoretical views (in recent decades, literally dozens of volumes of letters, diaries and other texts by Slavophiles and conservative writers of the late nineteenth-century have been published, but there seems to have been no generally significant breakthrough in understanding their works).
Furthermore, nineteenth-century literature tends to strike us as intuitively understandable and, as it were, known in advance, especially to those who attended Russian schools (where almost all literary study is based on such texts). Accordingly, novice researchers (I say this based on my experience working with Russian students) often lack the sense that they are engaging with a distant and complex field for which one must simultaneously develop new optics and use these optics to see what has not previously attracted scholars’ attention.
Of course, not all scholars in Russia fall within the framework of the two alternative paradigms I have described. I’d like to believe, moreover, that over time this opposition will become a thing of the past along with the historical circumstances that gave rise to it. But for the time being the two groups remain divided at multiple levels: their representatives publish works in different venues, speak at different conferences, and in general encounter one another less and less often. This institutional demarcation contributes not to softening boundaries but to reproducing the same situation: a young researcher is often forced to choose which version of literary study to engage in, and may not be allowed access to the other version.
How relevant is this opposition to North American and Western European Russian studies? Of course, it is difficult to judge, but still it seems to me that to some extent it also affects scholarly practices outside of Russia and the post-Soviet space. The inclination towards a “theoretical” approach is easily visible in in the way that western scholarship tends to limit itself to a few “great” writers, mainly those represented in Soviet and post-Soviet “complete works” editions. At least as seen from Russia, the overwhelming majority of contemporary American books and journal articles in literary scholarship can be read as complex theoretical constructions based mainly on material that has been well known for a long time. (One qualification: I do not think such works are bad, but I am quite convinced that without the binary opposition I have described, the situation would be much better.)
One can, of course, attribute this to practical reasons: after all, not so many archival materials on nineteenth-century literature are available outside of Russia, and not all old editions are found in libraries, except those in St. Petersburg and Moscow. But I doubt this is the explanation: one need only look at western historians’ work on Russia to note the difference. Authors of serious historical research usually try to introduce new material into circulation while at the same using this material to shed light on larger historiographical questions. Here one might cite as an example almost any serious book on the history of Russia to come out in recent decades—for example, Laurie Manchester’s work on the Orthodox clergy (Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the Modern Self in Revolutionary Russia, 2008), which is valuable both for attention to material that had previously not attracted scholarly attention and for its new look at a problem that has long been discussed. I find it difficult to make the same claim about many recent studies of Russian literature that have appeared in the West. I don’t want to say that in recent decades there have been no such works published, whether in the West or in Russia, but there have been far fewer of them than we would like. And after all, in an era of global mobility and online libraries, finding previously unexamined material is not so difficult.
In closing I will express my hope that in the future, students of nineteenth-century Russian literature will not have to hear statements like those I cited at the beginning of this article. I hope that our joint efforts will be able to achieve this.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
В результате в современной России и в некоторых других постсоветских странах исследователи литературы (подчеркнем: речь идет о серьезных ученых, ответственно занимающихся своими темами) оказались разделены на две группы. С одной стороны, это люди, которые продолжают упорно воспроизводить старые академические традиции; с другой — те, кому удалось более-менее включиться в современную исследовательскую парадигму. Конечно, нельзя сказать, что все исследователи литературы до единого делятся на эти два лагеря (вспомним, например, В.М. Живова, продуктивно работавшего с малоизвестными источниками и в то же время называвшего собственную работу «историческим деконструированием смыслов»). Однако для очень значительного количества исследователей описанная нами ситуация сохраняется.
Сложившаяся таким образом альтернатива между познанием и осмыслением очень во многом сковывает современную науку о русской литературе: ранее неизвестные персоналии, произведения и события из истории литературы остаются не осмысленными, а теоретические построения часто не затрагивают новый материал. Очень многие исследователи, как кажется, не видят и не хотят видеть, что их оппоненты — не ленивые бездельники и не злонамеренные жулики.
Необходимость выбирать, грубо говоря, между познанием и осмыслением, на мой взгляд, особенно тяжело сказывается на исследованиях по литературе 19 века. Во-первых, в этой области намного легче ограничиться именами нескольких крупных писателей, про которых, на первый взгляд, известно достаточно. Литературный канон этой эпохи, конечно, продолжает подвергаться пересмотру (очень перспективными кажутся, например, все более и более многочисленные в последнее время исследования о женщинах-писательницах этого периода), но, кажется, в обозримой перспективе вряд ли возможны настолько колоссальные сдвиги, как в случае постсоветского пересмотра значения литературы 20 века, продолжающегося до сих пор: понятно, что не получится публиковать произведения, например, советского неподцензурного авангарда, не обновляя исследовательскую оптику. Однако в случае литературы 19 века публикации новых материалов редко вызывают желание кардинально пересмотреть теоретические взгляды (в последние десятилетия изданы были буквально десятки томов писем, дневников и произведений славянофилов и консервативных литераторов конца 19 века — но никакого общезначимого прорыва в осмыслении их сочинений, кажется, не произошло). Во-вторых, литература 19 века кажется интуитивно понятной и как бы заранее известной, особенно бывшему ученику российской школы, где вокруг ее чтения построено почти все изучение литературы вообще. Соответственно у начинающих исследователей (могу сослаться на опыт работы с российскими студентами) очень часто нет ощущения, что они занимаются далекой и сложной областью, для которой нужно одновременно и выработать новую оптику, и ввести с помощью этой оптики увидеть ранее не привлекший внимания исследователей материал.
Разумеется, далеко не все ученые в России работают в рамках двух описанных мною альтернативных парадигм. Хотелось бы верить, более того, что со временем эта оппозиция уйдет в прошлое вместе с породившими ее историческими обстоятельствами. Однако пока две группы различаются между собою на самых разных уровнях: их представители публикуют свои работы в разных изданиях, выступают на разных конференциях, — да и вообще пересекаются все реже и реже. Это институциональное размежевание способствует не сглаживанию, а воспроизведению ситуации: молодой исследователь нередко вынужден выбирать, какой версией науки о литературе ему заниматься, — и в другую науку его могут и не пустить.
Насколько актуально описанное мною противостояние для американской или западноевропейской русистики? Конечно, мсудить сложно, однако мне все же кажется, что до какой-то степени оно влияет и на научные практики вне России и постсоветского пространства. Склонность скорее к «теоретическому» подходу легко видна в ограничении исследовательского поля немногочисленными «великими» писателями — преимущественно теми, творчество которых представлено в советских и постсоветских полных собраниях сочинений. По крайней мере, из России подавляющее большинство современных американских книг и журнальных статей в области науки о литературе прочитывается именно как сложные теоретические построения, основанные по преимуществу на давно и хорошо известном материале. (Оговорю: я не считаю, что такие работы плохи, но совершенно убежден, что без описанной мною альтернативы ситуация была бы намного лучше.)
Можно, конечно, сказать, что здесь дело в технических причинах: в конце концов, за пределами России доступно не так много архивных материалов по литературе 19 века, да и не все старинные издания встречаются в библиотеках, кроме петербургских и московских. Однако я сомневаюсь, что дело в этом: достаточно посмотреть на работы по истории России этого периода, чтобы увидеть разницу. Авторы серьезных исследований в области истории обычно пытаются одновременно и ввести в оборот новый материал, и осмыслить с его помощью общие вопросы историографии. Здесь можно привести в пример едва ли не любую серьезную книгу последних десятилетий по истории России — пусть образцом будет, например, биография Лори Манчестер о разночинцах-«поповичах», ценная и широким охватом ранее не привлекавшего внимания ученых материала, и новым взглядом на неоднократно обсуждавшуюся проблему. Не хочу сказать, что за последние десятилетия в России, и на Западе не было подобных работ о русской литературе 19-го века, — однако их было намного меньше, чем хотелось бы. В конце концов, в эпоху глобальной мобильности и онлайн-библиотек найти ранее не изучавшийся материал не так сложно.
Наконец, выскажу свое пожелание: мне очень хотелось бы, чтобы в будущем студентам, которые занимаются русской литературой 19 века, не пришлось слышать тех высказываний, которые я привел в начале своей заметки. Я надеюсь, нашими общими усилиями удастся этого добиться.